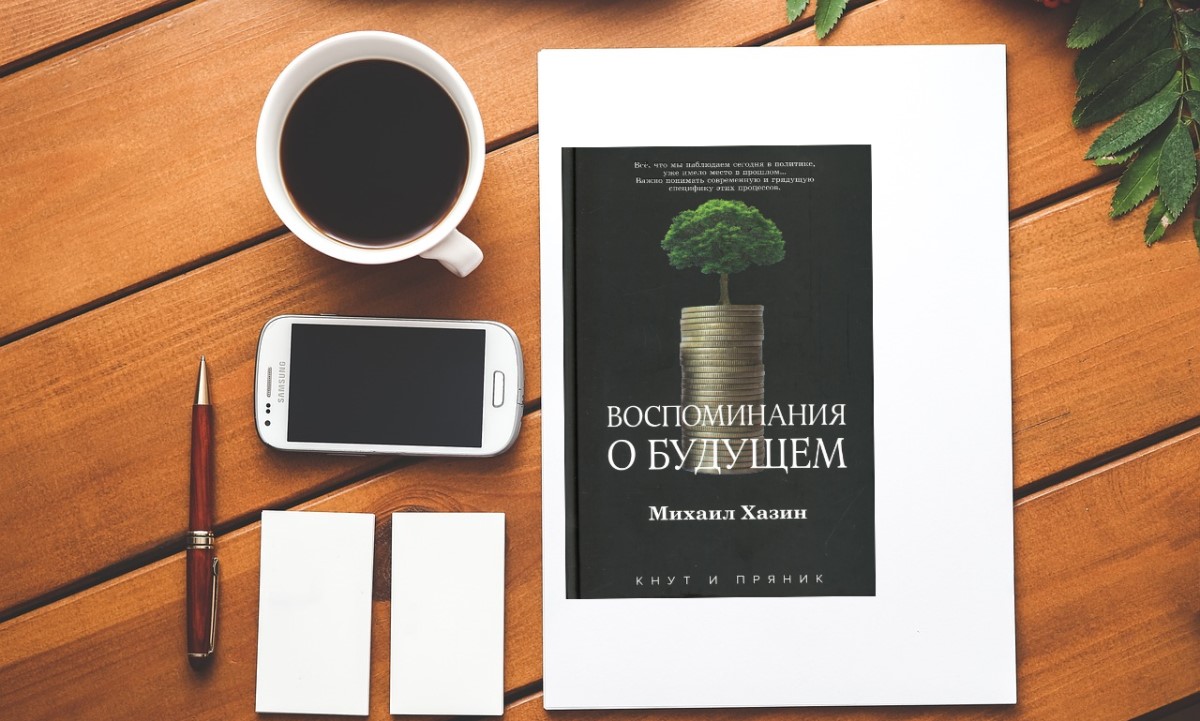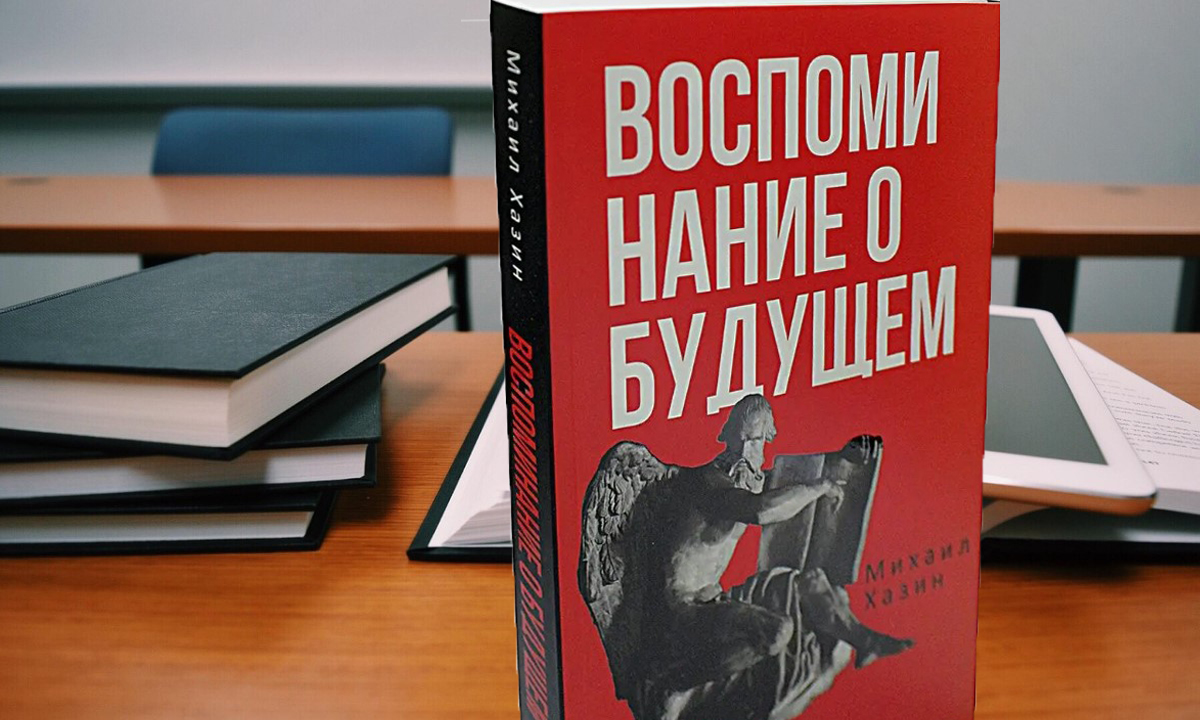Бесконечны ли потребности? Десять завтраков не съешь, или Продолжение анализа книги Хазина «Воспоминания о будущем»
Продолжаем читать книгу Михаила Хазина «Воспоминания о будущем» и формировать собственное представление о том, как устроена экономика и кризисы, попутно добавляя своих мыслей. Пятая глава, которая называется «Риски. Адам Смит и остановка разделения труда», на простых примерах из далёкого прошлого показывает проблему остановки развития. Остановка развития, в свою очередь, доказывает неизбежность возникновения кризиса, о чём будет уже шестая глава книги.
Чем выше эффективность, тем больше проблем
Автор книги приводит простой пример трансформации производства телег в деревне. Сначала телеги производили отдельные мастера – каждый свою. Потом они разделили труд – один производит колёса, другой – кузова, третий их собирает. И теперь у каждого из мастеров возникает вопрос – насколько надёжно опираться на своего партнёра по производству? В главе приводится огромное количество потенциальных проблем каждого из мастеров. Появится другой заказчик, выгоднее станет продавать на ярмарке, появится скупщик – не менее десятка новых очевидных возможностей каждого из партнёров, которые могут привести к разрушению цепочки и разорению каждого из мастеров. Основная мысль – производительность труда каждого заметно возрастает, но риски растут быстрее.
Так, в более современном технологичном производстве возникает технологическая цепочка. Каждое звено цепочки, это отдельный «мастер» – отдельный производитель комплектующих. Цепочка по мере углубления разделения труда постепенно увеличивается, но её удлинение останавливается на некотором этапе. Об остановке разделения труда говорил ещё Адам Смит.
Как только он есть, то его сразу нет
В советском мультфильме про Винни-Пуха эта фраза про мёд. У нас эта фраза про конечный спрос. Все технологические цепочки, все производители существуют только потому, что в самом конце всего производства стоит конечный спрос человека, домохозяйств. Именно наличие и динамика конечного спроса может запускать процессы производства и активность во всех промежуточных звеньях.
Однако потребности человека, как ни крути, всё-таки ограничены. Об этом говорит фраза «Десять завтраков не съешь». Поэтому, для того, чтобы проиллюстрировать мысль автора книги о конечном спросе и его значении, в качестве мысленного эксперимента можно вообразить такую ситуацию, в которой все потребности домохозяйств удовлетворены. Текущее производство удовлетворяет все потребности. В одном из звеньев цепочки возникает инновация, которая резко повышает производительность труда, в результате кто-то из конкурентов разоряется, и его работники теряют работу и перестают предъявлять спрос на товары. В результате конечный спрос падает. Таким образом, в этой модели любое усовершенствование производства ведёт к падению конечного спроса – «как только он есть, то его сразу нет».
Как отмечает Хазин, эту проблему можно решать на уровне микроэкономики, то есть, не ориентируясь на конечный спрос как макроэкономический параметр. Работать над своей системой управления предприятия, повышать свою эффективность предприятия, побеждать в своей конкурентной борьбе. По моему мнению, даже банки, конкурирующие друг с другом, мыслят в контексте микроэкономики. Но внешние неуправляемые обстоятельства, конечный спрос, всё решает, и в результате наступает кризис.
И снова Маркс
Все вышеперечисленные проблемы и риски останавливают разделение труда, не дают дальше повышать эффективность производства и в конечном счёте улучшать жизнь людей. Глубже начинаешь понимать тезис Маркса о том, что «общественный характер производства вступает в противоречие с частной формой присвоения его результатов». Общественный характер производства – это глубокое разделение труда и взаимозависимость частных производителей в рамках длинных технологических цепочек. А частная форма присвоения – это стремление каждого отдельного производителя максимизировать только свою выгоду в своём звене технологической цепочки, что сильно повышает риски всей цепочки и не даёт возможность повышать уровень разделения труда, а значит останавливает развитие.
В примере с полным удовлетворением потребностей всех членов общества к чему приводил бы рост эффективности в отдельном звене при более правильном устройстве общественных отношений? Он приводил бы к освобождению рабочего времени – сокращению длительности рабочего дня, который сегодня составляет около восьми часов, и почти не изменился за последние 100 лет невероятного технологического взлёта. Вместо этого он приводит к кризисам.
Машина времени существует
Что же современная конкурентная экономика делает с конечным спросом? Она отправляется за ним в будущее. Банки кредитуют население, которое приобретает себе материальные блага раньше, чем если бы процесс шёл более размеренно. И последние десятилетия ознаменовываются тем, что мы всё дальше и дальше забираемся в будущее. Когда настанет время выплаты кредита, это было бы то самое время, когда на самом деле можно было бы приобрести квартиру большего размера. Но она куплена уже раньше на кредитные деньги, а сейчас домохозяйству ничего не нужно. Спрос исчез. Это и есть механизм текущего кризиса, который, по мнению Хазина, не прекращался с 2008 года.
Повышение производительности труда и повышение объёма производства в начальных и промежуточных звеньях технологических цепочек увеличивает риски отдельного производителя, останавливает разделение труда и вступает в противоречие с конечным спросом. Современная экономика не научилась решать эту проблему, и придумала перенос конечного спроса из будущего. Тем самым создав неизбежность кризисов, и вызвав самый важный, последний кризис капитализма, который проявился в 2008 году.